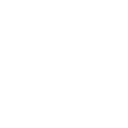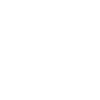Джаз — это летняя музыка. Джаз слышится в шуме южного моря и в раскалённом асфальте больших городов. Это музыка летних крыш и веранд, аэропортов и ночных парков. Джаз часто хочется слушать в одиночестве, но ещё чаще – в компании друзей и любимых. А иногда джаз отлично звучит в Зале Чайковского Московской Филармонии.

Первого июня началось не только лето календарное, но и фестиваль «Джазовое лето с Эйленкригом». Вадим Эйленкриг— известный российский трубач, телеведущий, педагог. В разное время он играл в биг-бэндах Игоря Бутмана, Анатолия Кролла, оркестре п/у Олега Лундстрема. С 2009 года начал сольную карьеру, создал собственный коллектив Eilenkrig Crew, выпустил два альбома, вёл на канале «Культура» телешоу «Большой джаз» и «Клуб «Шаболовка, 37». Вадим рассказал нам в интервью, как появилась идея фестиваля, почему предпочитает называть джаз «импровизационной музыкой» и почему в джазе, в отличие от других жанров, нельзя обмануть слушателя.

– Вадим, расскажите про фестиваль: как и у кого возникла эта идея, в чем отличие «Джазового лета с Эйленкригом» от других программ и фестивалей?
– Я думаю, что в идеале у каждого музыканта должен быть свой фестиваль, я давно был готов к этому и, наверное, ждал людей, которые предложили бы интересное партнерство. Мне очень приятно, что этим партнером оказалась Московская филармония, где работают люди творческие, готовые к экспериментам, но главное в том, что они предоставили нам полную свободу. Всё началось с предложения сделать один концерт, мы подготовили несколько вариантов на выбор, и в итоге родилась идея фестиваля.
Мы неслучайно выбрали название «Фестиваль современных джазовых оркестров». Публика в основном привыкла к джазу в стилистике Оркестра Гленна Миллера, при том, что в мире эта музыка давно уже звучит совершенно иначе. Соответственно, мы подбирали те коллективы, которые звучат именно современно и помогают раздвинуть сложившиеся рамки. Когда я говорю «мы», я подразумеваю, что за этой идей стоит целая команда: мой близкий друг, менеджер Сергей Гришачкин и весь мой коллектив.
Словом «джаз» часто называют очень узкий жанр, музыку 30-60-х годов прошлого века, а всё гораздо глубже, интереснее. Мне нравится термин «импровизационная музыка». Мне хочется показать, что джаз – это не только «Серенада солнечной долины», а много интересной, и главное, очень качественной музыки. Для меня только один критерий в музыке существует – очень хорошая и вся остальная.
Именно поэтому у нас среди участников фестиваля, помимо Eilenkrig Orchestra и Биг-бэнда Игоря Бутмана, заявлены Estonian Dream Big Band. Мы с Юри Лейтеном познакомились в Нью-Йорке, сделали совместный концерт в Эстонии, и мне очень хотелось привезти их в Москву. Это какая-то немецкая точность, другая культура, очень классные аранжировки. Мы пригласили чудесный квинтет Николая Моисеенко, закончившего после Гнесинки музыкальный колледж Беркли. Больше всего в искусстве я ценю новые идеи, всем только кажется, что они могут генерировать что-то новое, на самом деле - это самое ценное и одновременно очень редко встречающееся качество в музыке.
– Сколько времени прошло от возникновения идеи фестиваля до её реализации?
– Мы начали говорить про фестиваль осенью 2018-го, я считаю, мы очень быстро сделали всё. Как случай с Пикассо, который, сидя в кафе, мгновенно придумал и нарисовал обложку для журнала – на это уходит пять минут и вся жизнь. Есть команда, отвечающая за то, чтобы люди пришли на концерт. Я отвечаю за то, чтобы они не ушли, даже больше – за то, чтобы они пришли снова. Дело в том, что Вадим Эйленкриг как бренд – абсолютно коммерческий проект. В этом есть свои плюсы. Сыграв концерт, ты знаешь, что это должен быть твой лучший концерт, но следующий обязан быть еще лучше. Вообще, артисты делятся на две категории – сомневающиеся и не сомневающиеся, те и другие бывают очень хорошими, но мне более близки первые. Ты никогда не доволен результатом, и именно это является гарантией, что ты будешь искать, как сделать лучше. И каждый музыкант должен расти, повышать свое исполнительское мастерство, но помимо этого нужно еще и придумывать то, что связано с шоу. Здесь еще очень тонкий момент: шоу без мастерства – это клоунада, а мастерство без шоу – такая сайдменская, неинтересная никому история. Люди приходят за волшебством, за эмоциями, искусство для этого и существует. Мы все волшебники, а трубачи – особенно. У меня есть шутка, которую я сам придумал: только духовики заполняют инструмент тем, что у них внутри не только в переносном смысле.

– Если вспомнить некогда популярную фразу Ле Корбюзье о том, что архитектура – это застывшая музыка, то с каким архитектурным стилем, направлением или конкретным сооружением вы бы сравнили джаз?
– Мне кажется, джаз – это новые технологии, световые проекции, ничего застывшего там быть не может. Что-то футуристическое, с лифтами, раздвигающимися крышами. Свобода, основанная на колоссальных знаниях и традициях. Мы же понимаем, если сделать раздвижную крышу, не имея инженерного образования, она попросту обвалится. Так и в музыке. Инструментальная музыка – это абстрактное искусство. Всё остальное – живопись, литература, танец, даже вокал – конкретны. Любой человек может надеть пачку, кататься по полу и назвать это современным танцем. Любой человек может прочитать монолог, рвать на себе волосы и назвать это постдраматическим театром. Наверное, любой человек может взять трубу, но... В моем жанре это не проходит, сразу видно, кто есть кто. В академической музыке ты слышишь, насколько человек талантлив, насколько он в форме и сколько он провел за инструментом жопочасов (это мой термин, я его придумал и выстрадал), но только в моем жанре слышно, как человек думает.
– Про выстраданное: может ли ребенок, родившийся в музыкальной семье в принципе избежать карьеры музыканта или хотя бы музыкальной школы?
– Это очень сильно зависит от того, насколько в семье музыканты счастливы, занимаясь музыкой. Во времена Советского Союза человек мог увидеть мир в трех случаях: будучи дипломатом, спортсменом или музыкантом. И для меня при таком раскладе занятие музыкой было наиболее очевидным. Мой папа работал с Кобзоном, Гурченко, Миансаровой, Деметром, Кодряну, много гастролировал, объехал большую часть мира и очень хотел, чтобы я тоже имел такую же возможность. Просто потому что человек не должен жить в тюрьме. И вот так, из-под палки, со слезами, с этими жопочасами я и рос. Не будем углубляться в эту тему, чтобы не привлекать внимание ювенальной юстиции, но папа всегда говорил, что отцы Паганини и Ойстраха били своих детей, поэтому и получились Паганини и Ойстрах. Сейчас время какой-то странной педагогики, с этим всеми «нельзя на ребенка давить и заставлять». Не знаю, может поколение, которое вырастет, будет очень свободным, а может они просто ничего не будут уметь делать.

– Раз уж мы заговорили о поколениях: вы много лет преподаете в Академии имени Маймонида. В свете разговоров о миллениалах, «иксах» и «игреках», как вам кажется, сегодняшние студенты действительно другие?
– То, что нынешнее поколение менее эмоционально, чем мое – это стопроцентная правда, и я не знаю, хорошо это или плохо. Они более развиты в плане мышления и технически. Мне вообще кажется, что музыканты никогда не были настолько технически развиты. Но есть ощущение, что они немного не понимают, зачем это делают, причем и инструменталисты, и вокалисты. Мы, выросшие в совковые времена, любим гротескные проявления, большие формы, мы сентиментальны и гиперэмоциональны. Я это объясняю так: раньше, когда тебе нравилась девушка, нужно было найти силы к ней подойти, она при этом могла отвернуться, не отреагировать. Потом ты ждал её на свидании, она опаздывала, а ты не мог ей позвонить, узнать, где она и почему задерживается. И разве эти эмоциональные переживания сравнимы с лайками в соцсетях? А такие эмоции и формируют человека, музыканта особенно.

– Что про свое студенчество вспоминаете?
– Это же были девяностые. Я должен был поступить в ВУЗ, просто потому что я из семьи, где высшее образование считалось одной из главных ценностей. Но в Гнесинку меня не брали, там было 12 трубачей на место, и это был точно не я. Хотя, это только у нас до сих пор важно, где ты диплом получил, везде в мире ты приходишь и играешь, а потом тебе говорят: «Спасибо, мы вам позвоним», только говорят это с разной интонацией. Я закончил Московский институт культуры, «кулёк». Учился замечательно, ходил на занятия пару раз в неделю, в основном тусануться. Там были чудные девушки с библиотечного и хореографического отделений, и вообще были чудные девушки. А мне кажется, что девушки – залог того, что студенческие годы будет особенно приятно вспоминать. Уже потом у меня был некий кризис исполнительский: труба очень тяжелый физически инструмент, и, если что-то идет не так, начинает разваливаться всё, как если бы рассыпался фундамент дома. Очень трудно заниматься чем-то, если ничего не получается. Получилось, что в достаточно взрослом возрасте, лет в 25, я учился играть заново. За это я очень благодарен Е.А. Савину, он был гением, своих студентов я сейчас учу тому, что он мне когда-то дал.

– Что делать в ситуации такого исполнительского (и не только) кризиса?
– Надо понимать, что принципы пути одинаковы, чем бы ты ни занимался. Здесь важны две вещи: твой проводник, тот человек, который показывает и рассказывает, а второе – ты сам. Тебя могут научить, но научиться должен сам. Я верю в многодневный тяжелый рутинный труд. Наверное, есть люди, которым все легко дается. Но это точно не я. Как в армии: когда не знаешь, чем заниматься – отжимайся от пола. Так и в творчестве: иди занимайся три часа на трубе – и все сомнения отпадут. Да, сейчас такое время, когда выложить в интернет можно все. Но есть критерии: мастерство – это то, что сложно повторить, а искусство – то, к чему хочется возвращаться. Альбом Майлза Дэвиса "Kind of Blue" я слушал тысячу раз, но есть масса других записей, к которым я никогда не буду возвращаться.
– Кто из современных исполнителей вам интересен и что происходит в российском джазе?
– Даже когда просто в Youtube слушаешь какую-то вещь, в списке рекомендаций тебе выпадает столько нового и интересного. В джазе сейчас, безусловно, подъем. Само слово «джазовый фестиваль» привлекает внимание огромного количества людей, повсюду концерты, openair’ы, джазовые клубы в Москве заполнены (но, правда, ходят не на всех). Здесь же, в Филармонии, в феврале следующего года планируется мой проект к 60-летию альбома "Kind of Blue". Проект, который я выстрадал, придумал и убедил В.Спивакова, что это абсолютно симфоническое произведение, хотя его играет секстет. Мне кажется, что наше сотрудничество с филармонией получится очень красивым и длительным.
– Вернемся к участникам фестиваля. 20 июня в программе Московский государственный джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана, где вы играли 10 лет. Насколько сложно (или легко) было уйти из биг-бэнда в свободное плавание?
– Я очень благодарен Игорю, коллективу, уверен, что для джазового музыканта просто необходимо проработать лет 10 в биг-бэнде. Но в какой-то момент я понял, что хочу сам определять, где, что и как играть. Я всегда этого хотел. Сидишь без работы – значит сам дурак. И однажды на гастролях Игорь сам сказал мне: «Тебе пора». С тех пор у нас с ним гораздо более близкие, дружеские отношения.

– Вы еще и сам себе продюсер – это осознанный выбор или просто не нашлось такого человека?
– Да, это мое принципиальное решение. У нас в России очень странное отношение к этом слову: продюсер – это тот человек, который должен найти деньги и желательно еще заняться сексом с тем, кого он продюсирует. Мне кажется, секс должен быть свободен от творческих и коммерческих отношений, но главное в другом – продюсер определяет вид конечного продукта. Ведь "Thriller" Майкла Джексона не возник бы без Куинси Джонса.
– Что думаете обо всей этой истории с фильмом «Покидая Неверленд»?
– Я не смотрел этот фильм и не хочу – думаю, что у меня изменилось бы отношение к Джексону. Есть очень много людей в искусстве, которых я перестал в какой-то момент воспринимать, познакомившись с их высказываниями. Это касается, например, великого русского гуманиста Достоевского, который был жутким антисемитом. И фильмы Педро Альмодовара я больше не смотрю по этой же причине. Хавьер Бардем, подписавший то письмо Альмодовара, перестал для меня существовать как актер. Хотя он всегда меня смущал, казался слабым. Я не верю в людей, которые не сильны физически, но якобы очень сильны духовно. Когда за тобой нет силы, ты не можешь позволить себе быть великодушным, лишь гибким. Здоровая агрессивность (не истерика) лежит в основе мира, это мужское качество. Если б не спорт, я бы был излишне мягким человеком, в спорте моя агрессивность генерируется, а уже потом это идет в музыку.
– Кстати, говоря о силе: как часто вам приходится слышать, что к вам на концерты приходят не потому, что вы хороший музыкант?
- Мужчины обычно так говорят: понятно же, к тебе ходят только из-за того, что накачался. Но я в том жанре, где чем старше становишься, тем тебе больше верят. Пример – Сезария Эвора. Так невозможно петь, если ты не жил и не страдал. К примеру, «наше всё» Александр Сергеевич, за которого меня троллят и ругают. Глубина-то у него появилась лишь когда его друзей-декабристов на каторгу сослали, а до этого все страдания Пушкина сводились к тому, обратила ли на него внимания молоденькая княжна. С возрастом человеку, если он открытый и не черствый, всегда есть что рассказать.